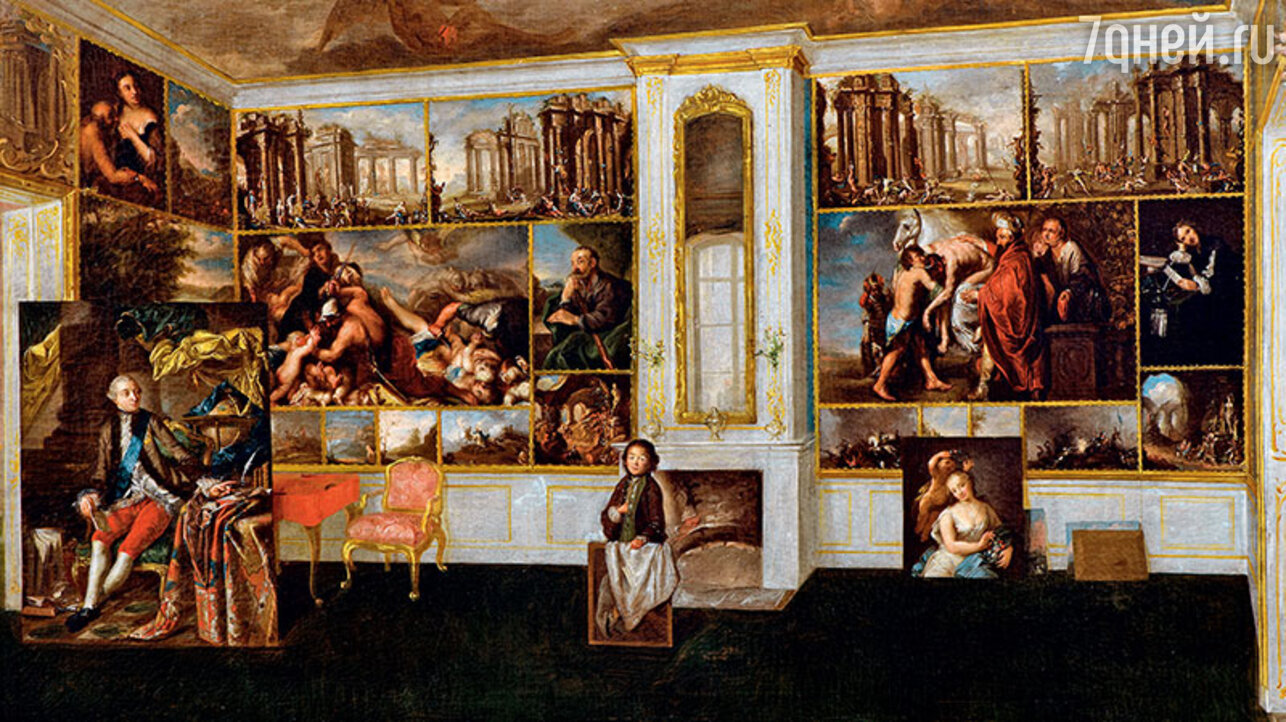
Конечно, все в Воронцово знали, чей Федя сын, но вслух об этом никогда не говорили. Петр Иванович был барин рачительный и к люду своему милостивый. Однажды даже крестьяне двух его деревень, узнав, что Репнин хочет продать их Долгоруким, взбунтовались и остались в воле Петра Ивановича. Мать Федя помнил большеглазой, всегда испуганно-тихой. Петр Иванович ее больше к себе наверх не требовал. Отчим, Степан Рокотов, репнинский кузнец, приемыша тихо ненавидел, но тронуть боялся — барин частенько звал сына в дом, справлялся об учебе. Кузнец вымещал злость на жене, знал — не пожалуется. Повзрослев, Федя вспоминал, как вдруг появлялись у матери синяки и шишки, как слышал ее плач украдкой по ночам.
Науки давались Феде легко, особенно нравилось рисовать. Часто, когда у Репнина собирались друзья, мальчика звали в гостиную — отец хотел, чтобы тот учился вести себя «промеж господ», эти уроки очень пригодились академику Рокотову впоследствии.
Как-то вечером за игрой в карты и винами хозяин сидел в Воронцово вместе со старинным приятелем. Тот подцепил с ковра Федины листочки, спросил, им ли это намалевано. Федор испугался, но твердо ответил, что все листочки — его.
— А мальчишка-то твой с талантом, — заметил гость, — найми ему сведущего рисовальщика для учения и поглядишь, что из него выйдет.
Приятелем этим был фаворит императрицы Елизаветы Петровны, в недалеком будущем всесильный Иван Шувалов, основатель Московского университета и Академии художеств. Но отец по-другому видел Федино будущее:
— Служить пойдет.
Да, нужно поблагодарить судьбу. Хоть и выпало полусиротское детство, но ведь могло и того хуже быть. Когда Феде сравнялось тринадцать, отец вызвал его к себе и объявил: он отправляется в Петербург, в Сухопутный шляхетный корпус, чтобы в течение семи лет обучаться наукам, после чего будет выпущен в военную службу. «Получишь чин — делай что хочешь, — Репнин взял сына за подбородок, строго заглянул в глаза, — да примечай кругом. В Шляхетный дворянских недорослей отправляют, заводи знакомства, не сиди бирюком — оно пригодится».
Тянулись дни — серые, похожие друг на друга, как ряд одинаково застеленных кроватей в казенном дортуаре. Позже Федя понял, что отец знал, о чем говорил: сначала в Шляхетном, а затем выйдя на военную службу, он и впрямь завел много полезных знакомств.
Среди новых приятелей оказался Николай Струйский, недолго прослуживший в Преображенском полку. Был он из пензенских дворян, чудаковатый поклонник Сумарокова, стремившийся прослыть поэтом. Вот только музы его совсем не жаловали. Несуразные вирши сыпались из бедолаги без удержу, и среди однополчан он был вечным предметом насмешек. Федору приходилось брать под свою защиту незадачливого рифмоплета.
Кто бы знал тогда, чем кончится это знакомство!
— Федор! Ба! Ты ли это? Наслышан, наслышан!
— Николашка! Давно ли тут?! Ничуть не изменился! Все складываешь вирши? — двое приятелей столкнулись на парадной лестнице Аглицкого клуба в Москве.
Выяснилось, что на Николая снизошло богатство. В семидесятые годы Россию поразили две напасти — чумная эпидемия и пугачевский бунт. Множество родичей Струйского унесла смертельная болезнь, кого-то вогнал в гроб «мужицкий царь». Николай Еремеевич сделался вдруг наследником богатых имений и больших капиталов. В двадцать два года он вышел в отставку — к чему теперь служба, когда его московские, пензенские и сибирские имения дают денег намного больше, чем он может потратить?
— А я женился совсем недавно. По второму разу. Первая супруга родами скончалась — и сама умерла, и девочек-близняшек с собой утянула... Сашенькая моя — ангел небесный, почтивший прикосновением своей ножки грешную нашу стезю.
— Ну вот, опять вирши! — засмеялся Федор Степанович, — все тот же!
— Ты ее еще увидишь, мою Сапфиру!
— Сапфиру? Отчего Сапфиру?
— Вот глаза ее увидишь — тотчас поймешь почему. А ты, брат, слышал я, в гору пошел. Во дворец запросто хаживаешь.

























